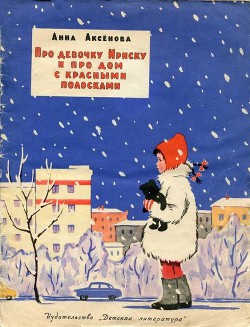эвакуированных. И всегда после сидения за столом начинались танцы — зимой в клубе или в той избе, где ели-пили, летом — на площадке перед клубом.
На эти танцы сходились и мы, школьники. Некоторые, побойчее, тоже танцевали. Решилась как-то однажды и я, поддавшись чарам общих ритмичных движений. Было в этом что-то колдовское, заставляющее забыться… Я это испытала один раз, больше не смела. Стояла, смотрела.
Как же интересно проявлялись характеры женщин в танцах!
Вот выходит на большую площадку, утрамбованную ногами не одного поколения, доярка Тася. Здесь в селе она у себя дома, она хозяйка, уважаемый человек, и потому ее движения свободны и раскованны. Кроме того, все у нее, как говорится, на месте и одета она по-хорошему, по-довоенному — в крепдешиновое платье. Она сызмальства знает все законы здешних танцев, все сложные фигуры. И гармонист, парнишка лет шестнадцати, смотрит только на нее, меняет ритм в зависимости от нее, и она, конечно же, привлекает всеобщее внимание и когда делает выходку, и когда начинает «дробить», то есть, мелко перебирая ногами, стучать каблуками, и когда запевает частушку:
Начинаю веселиться,
А веселье не берет.
Передых, дробь и…
Видно, я отвеселилась
За три годика вперед.
Ее напарница по танцам — потому что танцуют либо по две, раскинув руки одна перед другой, либо уж все ходят по кругу в затылок друг другу, — напарница отвечает:
Из-под юбки видно юбку,
Думаешь — богатая.
Передых, дробь…
Отступися задаваться:
Нижня — дыроватая.
Тасе явно не нравится эта не к месту пропетая частушка, и она выдает сразу две подряд. А это трудно, потому что во время паузы обычно вспоминается что-то новое, по возможности злободневное, желательно посмешнее. Тася без всякого отдыха могла выдавать по несколько частушек подряд и каждая как-то дополняла предыдущую. Память ли у нее была такая отличная, или она на ходу тут же сама придумывала частушки. (Уж талант, так талант!)
Случалось, что от нее первой я слышала какую-нибудь частушку, а спустя время их уже повторял кто-то другой. Чаще всего это были переимчивые школьники.
Возвращаются, бывало, к себе домой в деревню пяти-шестиклассники и, чтобы веселее и короче был путь, голосят себе частушки одну за другой.
Идет девчушка, золотые космы из-под шапки выбиваются, в руке портфель, к нему привязан мешочек с чернильницей, и надрывается:
Ягодинка далеко,
Далеко — не видно.
Пауза.
А я с девками танцую —
До чего обидно.
А ей в ответ, идя позади на приличном расстоянии, смешным басом орет малец в подшитых валенках:
Ты дроби, дроби, залетка,
Каблуком прихлопни.
Будто бьешь из пулемета,
Чтоб фашисты сдохли.
Это частушка, что пела на днях Тася.
— Михаил Серафимович, — спросила я директора Киселева, — а Тася Стародубцева живет еще в селе?
— Тася Стародубцева? Таисия Исаковна? А как же! — сказал Михаил Серафимович. — Она у нас Герой Социалистического Труда. Депутат областного Совета. В самодеятельности участвует.
— Постарела, наверное, сильно?
— Да нет. Сколько я ее знаю — все такая же, не меняется.
— Одна живет?
— Внуки наезжают. Их у нее семеро.
— У нее же вроде всего один сын был.
— Один и есть. В Кирове живет, инженер. Таисье Исаковне забота — помочь ему такую оравушку поднять.
Мы пошли с Михаилом Серафимовичем к Тасе.
— Какой симпатичный домик! — залюбовалась я в самом деле каким-то даже веселым домиком, окруженным молодыми деревцами ирги и рябины. Наличники на окнах расписаны белыми, красными узорами…
— Нравится? — Михаил Серафимовит был явно доволен. — Здесь вот и живет Таисия Исаковна. Этот дом совхоз ей к пенсии подарил.
Тася вышла на крыльцо. Нет, не прав был Михаил Серафимович — изменилась она: передо мной стояла крепко пожилая женщина, в которой моя память лишь угадывала прежнюю Тасю.
— Узнаете знакомую? — спросил ее Михаил Серафимович.
Тася вглядывалась в меня.
— Вижу, что знакомая, а вот не могу признать.
Я тоже изменилась.
— Тасенька, мы во время войны здесь жили, у Кати Молодцовой. Эвакуированная я, дочка Марии Николаевны. Помните?
— Ой, — всплеснула руками Тася и заплакала.
Михаил Серафимович ушел, а мы долго сидели с Тасей, перебирая в памяти знакомых — и деревенских, и ленинградских, и те времена, что соединили нас узами общей беды, общего горя.
Тася угощала меня чернильного цвета наливкой из ирги и все пыталась, да я не давала, распечатать «беленькую».
— Тася, — сказала, — а я помню, как вы петь любили!
Тася заулыбалась, горсткой руки прикрывая рот.
— Да уж, попела я. Девкой была — ни одну вечерку не пропускала. Отец у нас стромкий был, возьмет вожжи: «Хватит батурмой заниматься». А я хоть в окно, да убегу. Как же без меня-то?
— Тася, может, вспомните, что во время войны пели? Какую-нибудь частушку.
Тася чуточку призадумалась и вполголоса, чтобы не услышали, не обсмеяли городские внучки, запела:
Кабы, кабы не война,
Кабы не войнушка,
Я бы в нынешнем году
Была бы молодушка.
Воскресшей птицей пронеслось над нами прошлое, и словно своим тяжелым крылом птица всколыхнула мою память — я вдруг вспомнила:
На германскую границу
Посажу я котика.
Котик серенькие глазки,
Сохрани залетика.
Тася закивала мне, так, мол, так. И запричитала:
Ой, война, война, война,
Что же ты наделала:
Всех молоденьких ребят
На инвалидов сделала.
Шмыгая носами и стесняясь этого и улыбаясь друг другу, мы с Тасей чокнулись и выпили теперь уже «беленькой» из старинных рюмок простого стекла.
…Иногда в круг танцующих вступала и Надька. Если она, конечно, была здесь.
Господи, до чего же гордая поступь. Даже, пожалуй, и не гордая, а отрешенная. «Никого не вижу, никого знать не хочу — танцую для себя».
Смелость — в неожиданных поворотах, движениях, и вместе с тем такая красота! Танцевала она всегда только одна. Танцующие сразу отодвигались от нее, то ли боясь сравнения, то ли просто чтобы дать ей больше места.
И все не сводили уже с Надьки глаз.
Танец как бы давал возможность ее чувствам выйти наружу. И все сознавали в это время ее превосходство над нами. Почему превосходство, в
![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)